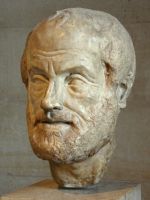Оккультизм
Оккультизм (от лат. occultus «тайный, скрытый, тайный») — собирательный термин для обозначения широкого спектра явлений, практик и идеологических систем, посредством чего данный термин может являться синонимом эзотерического, паранормального, мистического или сверхъестественного.
Несмотря на то, что различные термины и выражения, происходящие от латинского «occultus» («скрытый, тайный», от лат. occulere, «скрывать, прятать, утаивать»), как правило, весьма произвольно употребляются в обиходной речи, порождая тем самым большую путаницу, тем не менее, они являются отражением исторического развития, на разных этапах которого они обозначали различные вещи. Особенно важно различать первоначальное прилагательное «оккультный» и существительного «оккультизм», которое впервые вошло в употребление в XIX веке.
Оккультные качества
В контексте принятой в Средние века натурфилософии Аристотеля (384—322 годы до нашей эры) проводилось различие между явными, непосредственно наблюдаемыми качествами вещей (такими, как цвет или вкус) и их оккультными качествами, которые находились за пределами человеческого чувственного восприятия и не поддавались объяснению с точки зрения четырех основных свойств. Примером таких качеств может служить: сила магнетизма, влияние звезд, а также целебные свойства растительных, животных и минеральных веществ. Хотя соответствующие эффекты можно было наблюдать в природе и даже выявлять экспериментальным путем, однако их нельзя было понять или объяснить согласно канонам логики и натурфилософии. По этой причине их нельзя было рассматривать в качестве объектов научного знания с точки зрения средневековой схоластики; их существование могло быть подтверждено лишь косвенно, но не с помощью непосредственного исследования.
В своих фармакологических трудах Гален (II в.) писал, что многие вещества (лекарства, яды, амулеты и т. д.) действуют благодаря «необъяснимым свойствам», которые не поддаются систематическому описанию, а их принцип действия, — неизвестен. Средневековые мыслители, среди которых Фома Аквинский (трактат «О скрытых действиях природы», «De occultis operationibus naturae», написанный между 1269-1272 гг.), пытались объяснить их с позиций аристотелевского учения о форме: оккультные качества или достоинства вещей основывались на их «специфической» или «субстанциональной форме». Последняя была недоступна чувственному восприятию и не могла быть сведена к качествам элементов или их комбинации.
Основные идеологии эпохи Возрождения — неоплатонизм и герметизм в своих рассуждениях об оккультных свойствах вещей все еще оставались в рамках схоластических категорий. Так, описывая, свойство некоторых камней притягивать небесные дары, Марсилио Фичино подчеркивает их «оккультные качества», которые «сокрыты от наших чувств и потому с трудом постигаются нашим разумом»; далее он утверждает, что «материальной силе, чтобы добиться много требуется много материи; но формальная сила способна на многое даже при минимуме материи» (De Vita III, ch. 12). Аналогичным образом Корнелий Агриппа описывает оккультные свойства как «следствие вида и формы вещей», а также указывает на то, что они обладают гораздо большей эффективностью, нежели элементарные качества, именно в силу того, что «имеют много формы и мало материи». Далее он поясняет, что они «называются так потому, что их принципы отнюдь не явны, и поэтому человеческий ум не может в них проникнуть. Вот почему только философы смогли приобрести их частичное познание, скорее благодаря длительному опыту, чем природному уму» (De occ. phil. I: 10).
Новым философским идеям, связанным с «научной революцией» XVII века, зачастую приписывают неприятие и отрицание оккультных свойств вещей; но правильнее было бы сказать, что хотя они признавали их существование, однако пытались объяснить с точки зрения научной механики[1]. В то время как схоластический подход подразумевал, что оккультные качества выходят за рамки научного познания, философы и ученые вслед за Рене Декартом утверждали, что оккультные и так называемые проявленные качества можно объяснить с научной точки зрения в терминах неощутимой механики. Поскольку наше чувственное восприятие не позволяет получить непосредственной объективной картины реального мира, то, следовательно, абсолютно все свойства являются «оккультными»; однако из этого не следует, как полагали схоласты, что они непознаваемы. Новая наука не хотела ограничивать себя областью чувственного восприятия, а стремилась двигаться дальше в своем исследовании незримых явлений природы. В этом отношении прослеживается преемственность между естественной магией философов эпохи Возрождения и новой наукой XVII века: хотя первые все еще находились под влиянием схоластических концепций, а вторые пытались преодолеть их ограничения, однако и те и другие отказывались признавать, что оккультные качества относятся к сфере непостижимого и иррационального, но вместо этого помещали их в область реального, где они могли быть подробно исследованы с помощью человеческого разума и найти свое практическое применение.
Появляющиеся с XVII века уничижительные высказывания об оккультных качествах как о «дурно возведенном святилище невежества» или «пьянящем опиуме неизвестных качеств» (английский придворный медик Уолтер Чарлтон) фактически были направлены не против оккультных свойств как таковых, но адресовались схоластам, которых обвиняли в построении доктринального интеллектуального убежища, которое блокировало исследование, вместо того, чтоб его стимулировать[2]. В конце концов, все тонкости этой полемики были забыты, и любая вера в оккультные свойства стала восприниматься как несовместимая с наукой. Тем не менее, даже в «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера в глоссе «occulte» проводится четкое различие между «оккультными науками» и «оккультными свойствами»; в то время как первые отвергаются как суетные и суеверные, о последних мы читаем, что если древние философы понимали под оккультным качеством «причину, природа и способ действия которой неизвестны, то следует признать, что их философия в некоторых отношениях более разумна, чем наша».
Оккультные силы
Однако в то время как явления, традиционно именуемые оккультными качествами, все больше и больше демистифицировались пока не приобрели вид, позволяющий интегрировать их в «нормальную науку», традиционное понимание этих качеств как таинственных и, возможно, даже божественных сил также продолжало существовать. Начиная с XVIII века те, кто отвергал гегемонистские притязания идеологии Просвещения, все больше фокусировались на таких «оккультных силах» пытаясь доказать ограниченность механистическо-материалистической науки. Более того, в ответ на предполагаемую угрозу «фрагментации» (исходящую со стороны механистического мировоззрения) все чаще высказывалось мнение, что в конечном счете существует одна единственная сила, пронизывающая мир подобно невидимой жизненной силе пронизывающей человеческий организм. С XVIII-го века в роли этой оккультной силы выступали «электричество» и «магнетизм» животный магнетизм, которые обсуждались с точки зрения теоретических основ, уходящих своими корнями в естественную магию эпохи Возрождения. Теории магнетизма и электричества (а также сами эти термины) были в значительной степени взаимозаменяемы — основатель теории животного магнетизма Франц Антон Месмер колебался, при выборе термина для постулируемого его теорией невидимого флюида — и берут свое начало в эпоху Возрождения в работах Рудольфа Гокления младшего (1572-1621) и Афанасия Кирхера (1602-1680). Гоклений рассматривал магнетизм как проявление универсальных сил симпатии и антипатии; он писал, что задача естественной магии состоит в исследовании «этих необъяснимых свойств и сил, сокрытых глубоко в величии Природы» и представлении о вселенной как о живом организме. Кирхер в своем трактате «Магнитный камень, или магнитное искусство» (1643) связывал магнетизм с присутствием самого Бога как «всепроникающей, сияющей силы, дарующей жизнь, формирующей и поддерживающей все сущее». Впоследствии, на этом фундаменте, швабские пиетисты, в частности Фридрих Кристоф Этингер (1702–1782), Прокоп Дивиш (1696–1765) и Иоганн Людвиг Фрикер (1729–1766), разработали полную «теологию электричества».
Разработки новых теорий в этом направлении продолжались на протяжении всего XIX века и даже позднее, более того эзотерические мыслители без труда ассимилировали другие сходные концепции, такие как «эфир» или «одическая сила» Карла фон Рейхенбаха (1788-1869). Подобные попытки синтеза различных теорий, описывающих универсальную оккультную силу достигли своей кульминации в теософском термине «Фохат» предложенным Е. П. Блаватской, который она описывала в характерном для неё стиле: «оккультная, электрическая, жизненная мощь», «олицетворенная электрическая, жизненная сила, трансцендентальное связывающее Единство все Космические Энергии, как на невидимых, так и на проявленных планах», и «Солнечная Энергия, электрический жизненный флюид… Животная Душа Природы, так сказать, или – Электричество» («Тайная Доктрина», I, 109–112). Четвертая цель в первоначальной программе Теософского общества была сформулирована следующим образом: «Противодействовать материализму и теологическому догматизму любыми возможными способами, демонстрируя существование в природе оккультных сил, неизвестных науке, и наличие психических и духовных сил в человеке»; позже формулировка была изменена: «Исследование необъяснённых законов природы и психических сил, скрытых в человеке». «Психические и духовные силы в человеке» относились, прежде всего к чудесным человеческим способностям, демонстрируемым животным магнетизмом и такими его производными как гипноз, спиритизм и психические исследования, которые изначально объяснялись в контексте универсальной оккультной силы магнетизма, а также посредством родственных ему явлений (хотя в конечном итоге психологические объяснения, как правило, одерживали верх). Основная идея, как и прежде, состояла в том, что оккультные силы в человеке и природе невозможно объяснить с помощью господствующей материалистической науки, следовательно, это является прямым доказательством того, что на смену последней должно прийти гораздо более всеобъемлющее мировоззрение или «оккультная философия».
Оккультная философия
Понятие «оккультная философия», в отличие от qualitas occulta (оккультное качество), по-видимому, появилось в 1510 г. в первом варианте «Оккультной философии» Агриппы (в 1531 г. была опубликована первая книга этого трактата, а в 1533 г. вышло полное трехтомное издание). Из его посвятительного письма адресованного Иоганну Тритемию и его Ad lectorem становится ясно, что для Агриппы этот термин был синонимом «магии»: он назвал свою книгу «оккультной философией» поскольку надеялся, что это название будет менее провокационным. Вместе с тем магия для Агриппы означала возвышенную религиозную философию древних, prisca theologia (древнее богословие), Традицию, которая когда-то приобрела дурную славу и теперь нуждалась в возрождении. Такая тесная взаимосвязь между магией и древним богословием была вполне логична: Зороастр считался не только главой древнеперсидских магов, но также автором Халдейских оракулов и упоминался Фичино, как первый из древних мудрецов, предшествующий Гермесу Трисмегисту. Древнее богословие (prisca theologia) должно было быть тождественно древней магии (prisca magia), примером которой была теургия Халдейских оракулов; не говоря уже о евангельском сюжете поклонения «волхвов» младенцу Христу.
В «Оккультной философии» Агриппы, которую Уилл-Эрих Пойкерт охарактеризовал как «неоплатоническое кредо»[3], подробно описаны три вида миров: элементарный, небесный и интеллектуальный. Через различные уровни этих миров человек может «подниматься» к божественному или «притягивать» высшие силы. В этом контексте Агриппа обсуждает различные искусства и практики естественной магии, числовой символизм, астрологию и (христианскую) каббалу, последнее относится, например, к теориям о духах, ангелах и демонах, пророчествам и религиозной практике. Таким образом, термин «оккультная философия» обозначает совокупность «оккультных наук» (см. ниже), при условии, что они понимаются не только как практические дисциплины, но и как неотъемлемые части всеобъемлющей религиозной философии и космологии, в основании которой лежит неоплатонизм, герметизм и каббала. Эта возвышенная философия/космология, очевидно, рассматривалась как в высшей степени сочетаемая с христианской верой.
В более позднее время значение этого термина не претерпело существенных изменений: сторонники, равно как и критики использовали его для обозначения точки зрения, согласно которой «оккультные науки» рассматриваются не только как практические дисциплины, но и как неотъемлемые составляющие всеобъемлющей религиозной философии. В частности, начиная с эпохи Просвещения термин «оккультная философия» использовался исключительно в идеологическом контексте: современные теософы и оккультисты характеризуют этим термином свое собственное мировоззрение противостоящее материализму, позитивизму и догматическому христианству, тогда как для критиков этот термин примерно синонимичен мировоззрению, основанному на донаучных и иррациональных заблуждениях и суевериях. Поскольку в этом споре каждая из сторон заявляет о «научности» своей философии, неудивительно, что с XVIII века термин «оккультная наука» (в единственном числе) часто употребляется в том же значении, что и «оккультная философия». Это понятие следует отличать от термина «оккультные науки», употребляемого во множественном числе.
Оккультные науки
Понятие «оккультные науки», по-видимому, возникло в XVI веке, примерно в то же время, что и понятие «оккультная философия». Обычно выделяют три основные оккультные науки: астрологию, алхимию и (естественную) магию; однако этот список можно расширить, например, выделив различные гадательные искусства в отдельную категорию вместо того, чтобы включать их в категорию магии. Хотя эти различные «науки» по-разному влияли друг на друга и имели явные точки пересечения (например, астральная магия), однако у них была разная история, поэтому не было ничего необычного в том, что представители одной оккультной науки отвергали другую науку как ложную. Исходя из этого, трудно поддерживать концепцию «единства оккультных наук», предложенную такими влиятельными учеными, как Кит Томас и Брайан Викерс[4]; по всей видимости, такой подход отражает неспособность провести различие между оккультными науками, с одной стороны, и всеобъемлющим ренессансным проектом оккультной философии, — с другой.
Тем не менее, легко понять, почему астрология, алхимия и естественная магия оказались, что называется, в одной корзине. Каждая из этих оккультных наук занималась систематическим исследованием природы и естественных процессов в контексте теоретических основ, которые в значительной степени опирались на веру в оккультные силы, качества и свойства вещей; такое сочетание более всего соответствует термину «оккультные науки». Но подобно тому, что произошло с понятием оккультной философии, и почти по тем же самым причинам, понятие «оккультные науки» стало идеологически заряженным со времен Просвещения; после того, что произошло с понятием «оккультные качества» (см. выше), и в контексте дискурса, который настаивал на том, что наука является общедоступным и доказуемым, но не тайным и таинственным, знанием, само понятие «наука» стало рассматриваться как несовместимое ex principio со всем, что именовалось «оккультным». В результате любое использование термина «оккультная наука (науки)» впредь подразумевало сознательную нарочитую полемику против общепринятой или официальной науки. Такая полемика типична для оккультизма во всех его формах.
Оккультизм
Существительное «оккультизм» (l’occultisme), по-видимому, впервые появилось в «Словаре новых слов» («Dictionnaire des mots nouveaux») Жана-Батиста Ришара де Рандонвилье (1842 г.), в статье А. де Лестранжа «Христианский эзотеризм» («Ésotérisme chrétien»). Его использовал Элифас Леви в «Предисловии» («Discours préliminaire») к своей книге «Учение и ритуал высшей магии» («Dogme et rituel de la haute magie») (1856 г.), откуда позднее его заимствовали другие авторы. В англоязычном мире, похоже, он появился в 1875 г. благодаря Е. П. Блаватской («Несколько вопросов к “Хирафу”», Spiritual Scientist, 15 & 22 июля 1875, 217). Иногда, главным образом в ранних исследованиях, этот термин использовался в более широком значении как синоним эзотеризма (например, Робер Амаду «Оккультизм», «L'occultisme» [1950/1980]), или, более конкретно, в качестве термина эквивалентного оккультным наукам (см. например Копенгейвер, «Симфорьен Шампье и восприятие оккультной традиции во Франции эпохи Возрождения», «Symphorien Champier and the Reception of the Occultist Tradition in Renaissance France», 1978). В защиту последнего определения некоторое время выступал Антуан Февр, который описал оккультные науки как практическое измерение эзотеризма и назвал их «оккультизмом»[5]. В этом он, похоже, следовал за социологом Эдвардом Тирикьяном, проводившим различие между понятием оккультизм, который он использовал в отношении практик, методов и процедур, и эзотеризмом, который он определял как религиозные или философские системы верований, на которых основаны такие практики; это различие позднее было отвергнуто Робертом Гэлбретом как «несуществующее»[6][7], а впоследствии от него также отказался Февр[8]. Другой тип различия между эзотерикой и оккультизмом проистекает из работ Рене Генона, который противопоставлял свою концепцию эзотерической метафизики, лежащей в основе экзотерических религий, оккультизму, понимаемому им как квази-материалистическое искажение, представленное, например, спиритизмом, доктринами Теософского общества и другими тайными обществами того времени. Такие различия, принятые многими более поздними авторами (см., например, Серж Ютен, Люк Бенуа), очевидно, основаны на собственных традиционалистских убеждениях Генона и не могут быть признаны научными; вместе с тем его замечание о том, что «оккультизм» находится под сильным влиянием материализма XIX-го века, является вполне обоснованным и заслуживающим внимания. Фактически, в нынешнем научном контексте термин оккультизм, как правило, используется в отношении конкретных событий XIX-го века, относящихся к общей истории западного эзотеризма, а также к их производным на протяжении XX-го века. В первом, чисто описательном смысле, оно используется для обозначения специфически французских течений следующих за Элифасом Леви, расцветающих в «неомартинистском» контексте Папюса и связанных с ним проявлениях эзотеризма fin de siecle. Во втором, аналитическом и типологическом смысле, его можно рассматривать как относящийся не только к этим течениям как таковым, но и к типу эзотеризма, который они представляют, что также характерно для большинства других эзотерических течений ок. с середины XIX-го века (например, спиритизм, современная теософия или новые магические течения, относящиеся к Герметическому ордену Золотой Зари, вплоть до таких недавних событий, как движение Нью-эйдж). С этой точки зрения оккультизм определяется как включающий «все попытки эзотериков примириться с разочарованным миром или, альтернативно, людей в целом понять эзотеризм с точки зрения разочарованного мира»[9]. В этом смысле оккультизм охватывает подавляющее большинство эзотерических течений, по крайней мере, с середины XIX-го века, а его пионерами можно назвать таких авторов XVIII-го века как Эмануэль Сведенборг и Франц Антон Месмер.
Оккультное
Наконец, следует упомянуть об употреблении субстантивированного прилагательного «оккультное». Вышедший в 1971 году бестселлер Колина Уилсона «Оккультное», несомненно, оказал большое влияние на популярность этого термина, в особенности среди социологов и журналистов. Его вполне можно рассматривать как пример par excellence того, как множество течений и явлений, не согласующихся с категориями «научного» и «религиозного», сваливаются в кучу, которая более всего напоминает интеллектуальную мусорную корзину заполненную ненужными остатками (Hanegraaff 2004): популярная категория «оккультное», кажется, объединяет в себе все, что имеет отношение к «обаянию необъяснимого», от веры в духов и фей до парапсихологических экспериментов, от похищений НЛО до восточного мистицизма, от вампиров до ченнелинга и так далее. В этом смысле «оккультное» можно определить как «отвергнутое знание»[10]. Как таковой этот термин относится к области, включающей оккультизм, при этом он выходит за рамки этой области, согласно любому из определений, обсуждавшихся ранее; его также не следует путать с западным эзотеризмом в современном академическом понимании.
Примечания
- 1. Keith Hutchison, “What happened to Occult Qualities in the Scientific Revolution?”, Isis 73 (1982), 233-253.
- 2. Там же, р. 245.
- 3. Will-Erich Peuckert, Pansophie: Ein Versuch zur Geschichte der weissen und schwarzen Magie, 1936, р. 114.
- 4. Newman and Anthony Grafton (eds), Secrets of Nature: Astrology and Alchemy in Early Modern Europe, Cambridge, MA: MIT Press, 2001.
- 5. Antoine Faivre. Access to Western Esotericism (Suny Series in Western Esoteric Traditions). State University of New York Press, 1994. Pp. 33-35.
- 6. Edward A. Tiryakian, “Toward the Sociology of Esoteric Culture”, in: Tiryakian (ed.), On the Margin of the Visible: Sociology, the Esoteric, and the Occult, New York etc. 1974. P. 265.
- 7. Robert Galbreath, “Explaining Modern Occultism”, in: Howard Kerr & Charles L. Crow (eds.), The Occult in America: New Historical Perspectives, Urbana & Chicago: University of Illinois Press, 1983, pp. 17-18.
- 8. Antoine Faivre & Wouter J. Hanegraaff (eds.), Western Esotericism and the Science of Religion, Louvain: Peeters 1998, p. 8.
- 9. Wouter J. Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought, Leiden etc./Albany: E.J. Brill/SUNY Press, 1996/1998, p. 422.
- 10. James Webb, The Occult Underground, La Salle: Open Court, 1974. P. 191.